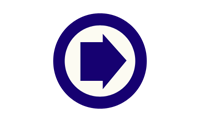А ЧТО ОСТАНЕТСЯ?
На эти мысли натолкнула, раскопанная в шкафах товарища книга Бенедикта Сарнова. «Бремя таланта». !987 год. Время излета не просто страны в таких-то ее границах, но и всей «советской культуры». Громыхают, притомившие уши, литавры официальной идеологии. Великолепно выдрессированные цирковые лошади рождают тоску о мустангах, материализовавшуюся вскоре в телевизионном «Взгляде». Кажется: в соц. культуре все так одрябло, облупилось, приелось…
Но, скорее, именно кажется. Прикоснитесь к Бенедикту Сарнову – и перед Вами своего рода блики даже не литературной критики, а магии литературознания. Потрясающая нюансировка… Такая же архаичная и неуместная сегодня, как скрипка Паганини, на грохочущей рок-сцене.
С чем-то хочется поспорить и ответить своим. Но этот воображаемый спор сродни шахматной партии с мастером, где отвечаешь ходом на ход.
А есть и места, места, вновь прочитанные через долгие десятилетия, которые побуждают задуматься уже сейчас, с хрупких высот уже нынешнего опыта.
И одно из этих мест – этих оазисов живой и при этом стройной, как аллеи парк, мысли, о субъективном и объективном, как в собственно художественном творчестве, так и в нас самих.
Вот цитируется Горький: «Человеку ставится задача: найти себя, свое субъективное отношение к жизни. К людям, к данному факту и воплотить это отношение в свои формы. В свои слова»…
Сарнов же, словно клубочек, разматываемый в нить Ариадны, раскручивает мысль Горького при движении по лабиринту смыслов: «… Горький ясно дает нам понять, что суметь написать то, что вы на самом деле думаете… не такая простая задача… А как отделить то, что я на самом деле думаю о себе самом, от того, что я хотел бы о себе думать? Как отделить то, что я думаю о разных событиях и обстоятельствах, разных явлениях и людях… от того, что принято думать, в моем дальнем или ближнем окружении?»
Поэтому-то для писателя главное «это найти себя, «свое субъективное отношение к…», то есть, прежде всего, для самого себя выяснить, что вы действительно думаете «о себе самом, о вашей жене, о Гете, о ваших начальниках» и т.д.»
Дар искренности – великий и редкий дар. Немыслимо трудно, почти невозможно преодолеть гнет привычных представлений о том, что «принято», а что «не принято», что «прилично», а что «неприлично»… (Б.Сарнов, с.42 – 43).
Читаю – и невольно всплывает, рождающий неожиданные уже хрестоматийный и колкий афоризм звучащий примерно так: «Если из истории убрать всю неправду, то это не значит, что останется одна правда. Может статься, что в ней ничего не останется».
Переведем сказанное в область самопознания и искренности. И что можем получить в итоге: «Если из всего того, что возбуждает наши страсти и насыщает наш интеллект, убрать чуждое, наносное, привнесенное позавчерашними привычками и сегодняшней пропагандой, рекламами, черным и белым пиаром, гносеологическим хаосом и массовой культурой в целом, то, может статься, что у огромного числа самих по себе не глупых людей, ничего и не останется».
Чего не коснись – вкусов ли, предпочтений, оценок политических и иных ситуаций – все окажется навеянным, хотя и сросшимся с тем, что вы считаете собственным «Я». А сам вроде бы критически мыслящий человек, если от него отматывать все наносное и даже «непереваренное», окажется Субъективной пустотой, оставшейся после отмотки фантиков с лжеконфетки.
И тут уже дело не в «национальных» и иных кодах, не во фрейдовских отсылках к детству или юнговских архетипах. Все это – реальные, но уже промелькнувшие за окнами экспрессов нашего сознания станции. Наши же «я», нашу «субъективность» в огромнейшей же и все возрастающей мере определяет инфорабство с разнообразнешими эрзац-продуктами, пока еще (?) плохо приспособленных для нашего «субъективного» переваривания…
Проблему чувствую. Причем во всей ее грандиозности. И я тут далеко не первый. Просто даже во времена Ортеги такого всесокрушающего давления на субъективность, проще – на личностность, не могло быть уже и по чисто техническим причинам.
Разве что, есть вариант, который можно уподобить играм за клетчатой доской, где не может быть ни мастерства, ни творчества без определенного освоения того, что уже дали другие, без следования не только определенным правилам, но и канонам. Однако именно здесь без личностного усваивания основ невозможны реальные успехи. Личное же усваивание в шахматах, шашках, го выражается в том, что каноны и уже известные образцы воспроизводятся собственно игроком именно в его партиях. Творчество же вырастает из симбиоза канонов и учета конкретных ситуаций, требующего собственного осмысления положения, а не зазубривания. Только и всего.
Но и интеллектуальные игры при всем возможном азарте и эмоциональном накале – лишь составляющая того, что творит индивидуальность. Упомяну только то, что сейчас мне видится особенно значимым – сопричастность Природе и общение. Включая и общение в деятельности. Ведь и то, и другое, в отличие от миров осмеянного еще Сенекой узко функционального рабства, мануфактур, конвейеров, и тяготеющих к строгой технологизации процессов, является собой такие бесценные массы вариаций навыков, эмоциональных состояний и поведения, которые уже сами собой порождают разнообразие индивидуальностей.
Увы, и первое – живое общение с природой, как неотъемлемой частью человеческого бытия, становится достоянием все меньшего числа людей, и второе – человеческое общение – отнюдь не линейно обогащающийся дар Прогресса, что, помимо всего прочего, наглядно показали кампании запретов, развернувшиеся вокруг ковида. И только ли вокруг того, что было названо пандемией?
Остается заметить, что все, бегло очерченное здесь – лишь малая часть проблем, наваливающихся на нас в эру в немалой мере управляемого информационного хаоса.
ВСЕГДА ЛИ РАВНОЦЕННО ГОРДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: «Я ТАК ДУМАЮ»?
Эти наброски своеобразное продолжение предыдущих размышлений. В какой-то мере они порождены вихревыми потоками в интернет-пространстве, в какой-то – книгой Сарнова, а в какой-то – беседами, а то и горячими «словесными баталиями» в часы прогулок по городскому скверу.
Тех прогулок, когда напористо пылкий сотоварищ бросает: «Вот я всегда говорю, что думаю сам, а ты прячешься за чужое». Или, когда двое сильных в своих сферах, очень, очень взрослых начинают почти яростно спорить о сравнительно недавней истории, не будучи собственно историками.
Картинка типичная для наших дней. И дело тут не в дипломах, сертификатах, отсиженном на вузовских скамьях таком-то конкретном образовании. Дело в ином. И в чем же?
– В миражах-иллюзиях этого напористого: «Я думаю сам».
А сами ли? А сами ли?..
Вдумайтесь: миллионы и миллионы людей готовы яростно спорить, и спорят вплоть до разрыва отношений о том, что привнесено им извне, и, словно в массовом гипнозе, представляется им, как свое, личное, хотя на деле никак не сопряжено с их личным опытом и просто-напросто не может быть проверено ими.
Тут, как с выбором лифтов (то есть компаний их устанавливающих), перед которым в связи с такой-то программой поставили жильцом нашего дома. Вроде бы и выбираете сами. Но знаете о компаниях лишь от других. Поэтому-то и Ваш личный выбор по своей сути оказывается выбором, основанным на доверии к тем, кого считаете более компетентными именно в этом вопросе. Или – кого Вам представляют понимающими. И так – сплошь и рядом.
Таким образом, оказывается: свобода моего выбора определяется уровнем моей компетенции. А степень самостоятельности моего суждения – информированностью и подготовленностью для обсуждения вопросов и задач ОПРЕДЕЛЕННОГО рода.
Все это напрямую относится и к истории, и хоть как-то брезжущей научности. Еще не так давно соотносимой в массовом сознании с образами Истины.
Научность, а проще говоря, трезвость мысли всегда сопряжена с сочетанием доказанного и даже аксиоматического, и представляющегося сомнительным, требующим дополнительных размышлений и обоснований, либо просто неизвестным. И знаменитое парадоксально – сократовское: «Я знаю, что ничего не знаю» не так уж тупиково.
– Ну, кому нужен тот, кто ничего не знает или не знает ответов на значимые вопросы? – Не случайно же через столетия после Сократа Тертуллиан воскликнет: «Философы ищут – значит, они не нашли!» Но тогда какой смысл идти «за огоньком» к тому, у кого нет светильника?
Однако, если порыться в диалогах Платона, то, среди прочего, мы находим ключик к парадоксу. И он не только в том, что другие не знают и о собственном невежестве (что само по себе крайне важно), а и в том, что Сократ добавляет, что он сознает: его знания не абсолютны, не полны и нуждаются в дополнении и уточнении. А, значит: открыты дальнейшему поиску.
Здесь же вспоминается и хрестоматийный древний диалог Учителя и ученика, спрашивающего мэтра о том, почему тот, столь многое изучивший, столько во всем сомневается. Учитель же рисует два круга. Маленький – круг познаний ученика. Большой – круг изученного Учителем. Чем больше круг познанного – тем больше соприкосновений с неизученным, неизвестным и тем, что тогда-то и тогда-то не позволяет дать окончательных ответов на нечто. Как видим все «элементарно». Как у Шерлока.
Так обстоит дело и с историей, которая во многом несравненно запутанней точных и конкретных наук и при этом, как и иные науки, начинается-то с обзора чужих мнений . Ведь любой, даже самый смекалистый человек – не Адам, не первый, кто живет на Земле. Тут уж прежде, чем говорить о «своем мнении», уместно разобраться, а насколько оно «свое», и на чем основано?
…Как в одном из фильмов с Челентано. – Красотка горделиво говорит главному герою, что у нее одежда от Валентино, а тот ей: «Так чего же ты говоришь, что она твоя?»
Вроде забавная шуточка. Но у скольких из нас интеллектуально-эмоциональные одежды «от Валентино». Однако мы носим их, пользуемся ими, как своими. Стоит лишь осознать, что, хотя мы ими и пользуемся, но изготовлены – то они не нами.
А дальше уже вопросы: кем? с какой целью? насколько качественна эта одежда? насколько она подходи к местному климату? – и т.д.
В историческом мышлении, возможно, главное – обоснование. Ну, кому будет особенно интересно, что Вы (как Вам кажется, сами) думаете о Наполеоне, Ленине, Сталине?.. Ответьте сначала, а откуда – «из каких рук» у Вас взято, то, что вы именуете «собственными суждениями»?..
Казалось бы, я топчусь здесь на далеких от жизни и приевшихся банальностях. Об азбуке какой-то частной профессии.
К сожалению – нет. Сегодня, когда особенно яростно и хитроумно использование Истории ведет к сталкиванию лбами отдельных людей и целых народов, особенно значимо отделение собственно своего, того, что вы лично способны как-то проверить, от навеянного рекламой, СМИ и прочим. Вполне понятно, что ни в истории, ни в медицине, мы, как и во многом ином, просто физически не можем проверять все сами лично. Но, хотя бы различать, собственное, то есть обоснованное опытом (если таковой есть) от наносного – это уже очень значимо. Ведь именно наносное, чужеродное, преподносимое, как Ваше личное, сплошь и рядом оказывается тем джином – рабом лампы, которого сплошь и рядом используют в собственных «личных» целях «магрибинцы» разных мастей.
ВПЕРЕД, В ПЕЩЕРЫ!
Наш дом опять лихорадит. И только ли наш? – То шумели, рядили – уходить ли в «Оси». И перешли. Совершенно свободно. А как же еще иначе? – Ведь, по реющим в воздухе слухам (и не только слухам), Акимат пойдет на установку новых лифтов лишь там, где «Оси». А кто же в многоэтажке лихо откажется от лифта? Какая замечательная свобода выбора.
Правда, тут невольно вспоминается неувядающая «Бриллиантовая рука» со слоганом Управдома: «А кто не будет брать – отключим газ». Так ведь нам частенько вспоминается не только это.
Ну, да ладно. Жильцы в «Оси». Но собрания и новые инициативы не иссякают. Вот опять очередное, скоропостижное. Собирайтесь в три часа дня (когда многие на работе – ну это уже мелочь). Для чего? – Для принятия судьбоносного решения о запайке трубы мусоропровода. И опять маячат парни из Акимата. Казалось бы, а Вы-то для чего? – Жильцы-то теперь свободные собственники не только квартир, но и каждого кирпича в подъездах! – Но не тут-то было. Акимат с неутомимыми напоминаниями о штрафах, как о карах Божьих, и тут не дремлет.
Может, оно и хорошо, что не дремлет. Но с чего это, срочно встал вопрос о мусоропроводе? И не много ли собраний? Так ведь – живи хоть двести лет – а растратишь себя по мелочам, которые исподволь отколупывают время жизни ради всякой дребедени. Остается лишь ждать собраний, о том, какой краской красить перила и прочая. Да и мало ли что можно придумать, чтобы люди не скучали.
Что же касается собственно запайки мусоропроводов, да еще ради благой и священной гигиены, дабы мусор сразу выносился за пределы здания, то что, от этого отходов меньше станет? Правда, бывает, что необдуманно тот самый мусоропровод засоряют – мне самому не раз доводилось прочищать. Ну, так и не все водители соблюдают правила движения. Давайте запретим личный автотранспорт. Да что водители! – И не все хирурги удачливы. – Заменим хирургию знахарством. Что же – до собственно засорений и прочего, то и иные прелести цивилизации можно заменить дощатыми удобствами во дворах – засоряться и выходить из строя не будут.
Да и что Вам стоит лишний раз спуститься с пакетом мусора к бакам вне дома? Правда, есть еще и инвалиды, о которых заботливо трындят на всех углах. Даже из деликатности слово «инвалиды» заменили на люди «с особенностями». А каково в многоэтажке будет им? И им подобным? – Одно дело – торговые точки. Вспоминать у каждой из таковых об инвалидах и неуместно, и бессмысленно. При необходимости можно выбрать те, что с удобными пандусами. Но подъезд-то и этаж так легко не изменишь.
Однако, если все-таки суетятся, то значит кому-то это надо! Только вот заботой ли о горожанах и городе навеяна эта суета?
ДВЕ СТОРОНЫ НЕ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Так случилось, что в нашей жизни перекрестились два события, не очень заметных для занятых своими делами масс. Но при этом показательных. Первое – публикация в «НГ», вновь горячо обсуждаемой проблемы переименований в Казахстане.
Сама по себе проблема выеденного яйца не стоит. Если только не играть подменой понятий о возвращении «исторических наименований». «Историческое» – то название, которое появилось изначально, когда строились город, улица и т.д., будь это название советское или дореволюционное.
Другое дело, что и таковые, «исторические» могут меняться. И в истории мировой культуры, и в истории культуры отечественной. Я живу на улице, которая в мою бытность три раза меняла свое название, и ничего особенного не случилось, хотя, убежден, игры в омассовленные переименования – это все суета вокруг дивана.
Да ведь не это главное. Правда, могут заметить, как, согласно газетной цитате, высказался депутат Е.А. Абиль: «Как объяснить ребенку в г. Рудный, что означает название улицы «40 лет Октября»? Как объяснить наличие в Костанае улицы Урицкого, названной когда-то в честь большевика с сомнительной репутацией? Какую воспитательную ценность или мировоззренческую цель несет сохранение подобной топонимики? – возмутился Еркен Абиль».
Объяснить-то все можно. Было бы желание и умение. А то, что умненькие дети к девятому классу не слышали о Хиросиме и Нагасаки, а ко времени учебы в колледже – об Амангельды Иманове – то это вопрос не к ним.
Я знаю Е. Абиля, как интересного и образованного историка, хотя, наверное, и не во всем мог бы быть с ним согласен. Но воспитание-то начинается не со свистопляски переименований. Болезненнейшая же проблема не в том, что красивее, историчнее или этничнее звучит (подробнее об этом почитайте у Данияра Ашибаева). У нас вот спешат с переименованиями, как отпускники в вот-вот отправляющийся самолет вечности. Но кроме призрачной вечности есть еще далеко не призрачное настоящее. А это настоящее нашего мира очень хрупко. И основная беда таких споров в том, что они будоражат, раскалывают людей, а, следовательно, и расшатывают стабильность. Из-за вопросов третьестепенных, не нуждающихся в самовлюбленной суетливости.
И что еще существеннее – так это то, что воспитывать можно совсем иначе. Не сталкивая, а сближая людей. Один из наглядных примеров – вечер, посвященный 90-летию Герольда Бельгера, проведенный в «Доме Дружбы» немецким обществом «Возрождение» и областной библиотекой им. Л.Н.Толстого.
Встреча прошла на одном дыхании. В фойе прекрасная выставка книг. Пелись песни и читались стихи на трех языках. Танцевали девочки с лицами, святящимися от причастности к творчеству. И все это было не формально, без ложного пафоса и сюсюканья. Да и личность Бельгера по самой своей природе была чужда всему наносному и фальшивому.
Для тех, кто незнаком, напомню: Бельгер – уникальный для Казахстана общественный деятель, писатель и публицист, творчески освоивший немецкий, казахский и русский языки. Именно творчески: он овладел ими не, как человек с базара, а как литератор, тонко чувствующий слово и способный превращать словесную пряжу в ткань подлинной литературы. Согласно интернету, он – автор более сорока книг и свыше полутора тысяч (1600) публицистических работ.
Как мне видится, Бельгер и его жизнь, сегодня дают нам, по крайней мере, три главных урока.
Первый уже упомянут. Это наглядная демонстрация и творчеством, и всею жизнью реального дела, направленного на слияние культур, а, следовательно, и сближение, как отдельных людей, так и разных народов.
Второй, очень горький урок рожден трагической историей ХХ века. Семилетним мальчиком он вместе с массами немцев Поволжья был депортирован в далекий Казахстан, так что и в школу пошел в ауле. Именно там овладел и казахским языком. Трагедия эта библейского масштаба. Она коснулась не только советских немцев, но и миллионов, проживавших в других странах. Трагедия же советских немцев была по-своему особенно драматична: а что было бы, если бы немцы остались между молотом и наковальней в месяцы ожесточенных сражений у Волги? Не больше ли было бы жертв?
Так или иначе, а переселение оказалось тяжелейшим испытанием. И духовным. И физическим. И правда об этом – как одна из капелек общей истории – обретает масштабы мирового явления. И уже поэтому Бельгер – писатель, самою историей занесенный в число тех, кто оставил в ней заметный след.
Увы, в этой мировой истории есть и обратная сторона урока, так и не выученного и по сей день. Суть его в том, что прошло время лихих набегов, обогащающих целые племена, а фюреры и прочие несут чудовищные беды не только чужим народам, а и своему.
Третий же урок – урок личного мужества, вспоенного жаждой полноценной жизни. С раннего детства Герольд был серьезно болен. Падение в довольно раннем возрасте с коня. Туберкулез кости. Многолетняя жизнь на костылях и… спасение в деятельности, творчестве.
И время было лихим. И судьба народа трагичной. И сам болезненен. Причем в буквальном смысле, познавший, что такое неотступная физическая боль. А столько сделал, что и здоровым, и с более благополучными судьбами и не снилось. И не только сделал, но при своей болезненности прожил больше 80 лет. Это ли не урок молодым, да и все нам?
ДЕЛО В СЛОВАХ ИЛИ ЛЮДЯХ?
Я обычно не смотрю электронные отклики на то, что пишу. Люди часто «откликаются», стремясь выплеснуть свое, а не обдумать прочитанное. Но тут посмотрел – там, где речь о жилищных хозяйствах. Занятно. Даже замечено, что и домоуправлений уже нет, значит, автор – замшелый совок.
Но суть-то моей простейшей мысли в том, что назвать-то можно по-разному, однако для меня, как получателя услуг, в данном случае ничего не изменится – мое дело вовремя оплачивать коммуналку и я, как и многие, от этого никогда не увиливал. Будет место, куда плачу, называться так или иначе. Да и сам шум вокруг жилфонда – лишь замечательный показатель того, что вытворяется с нашим «менталитетом».
Забудем на время о «совках» и «не совках». Вспомним только элементарную арифметику. При пуске отдельных домов в автономные плавания нужно больше бухгалтеров и кое-кого еще, кому надо бы платить. Причем эти все должно быть относительно постоянно живущими, честными, компетентными и желающими заниматься соответствующей работой. Если где нашли таковых – и слава Богу. Да, судя по нашим собраниям, энергичных и компетентных, да еще желающих впрячься, не так уж много. Так чего же Вы шумите, если сами не готовы взяться за дело?
Но, опять-таки, здесь куда любопытней и значимей другая сторона. Вслушайтесь внимательно в такой аргумент: у ПКСК, ТОО и т.п. (как их не назови) ряд домов – и все надо обслужить. А тут обслуживание будет сосредоточено на одном доме. А что от этого в городе слесарей, сантехников и иных работяг, знающих толк в своем деле, больше станет? – Вот ведь ключевой вопрос. Да назовите вы стринги шортами, задница все равно будет голой.
То же самое относится и к медицине. Не хочу ее хаять. У нас еще и медики есть, и даже доки; и прекрасно отстроенные больницы и поликлиники. Но как бы мы не называли медучреждения, какие бы преобразования не учиняли, если только нет таких-то и таких-то конкретных спецов, то пациентам от этого легче не станет.
То же самое во всем. Скажем, с тем же «антиозеленением». Кронируют, рубят, бывает, сажают на том же месте вновь. И не только у нас. И кое-кто убеждает: «Да это же мировой заговор! Нас извести хотят». На счет заговора здесь «глаголить» не буду. Но, рассуждая проще, может быть суть в компетенции тех, кто оказывает медвежьи услуги городу и дискредитирует дело, которым он занимается, в том числе и потому, что компетенций именно в данном конкретном деле не хватает.
Та же картина и с плиткой. Оставим для желающих разговоры о том, что халтура может быть финансово выгодна. Просто пройдем мимо костанайского регионального университета. Сколько выбитой, хотя и совершенно недавно выложенной и эстетически привлекательной плитки. То ли слишком тяжелую технику для чистки льда и снега посылали, то ли сама плитка дефектна. Но и тут все упирается в дефицит профессионализма – конкретного в конкретном виде деятельности. И как-то само собой всплывают образы, навеянные армией. – Вспоите сколько угодно усыпанных званиями высших военных чинов. Поставьте Вам какой угодно современный танк. Но, если нет грамотного и умелого механика-водителя, стрелка…, то танк останется грудой железа. Как видим, стержневой вопрос – не в названиях, и даже в определенной мере не в играх с формами собственности, а в ином. «Политруков»-то – пруд пруди. А вот тех, кому предназначено умело вести танки, становиться ли больше? Что на это скажет статистика?
«СТАРИЧЬЕ» И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Звучит несколько отвлеченно. А проблема-то из самых животрепещущих и касающихся нас напрямую. Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни за сто лет в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений.
Как же быть с этим «старичьем», и куда его приткнуть? Чем должно стать пенсионное время – «временем дожития», временем поиска форм заполнения свободного, а то и опустевшего жизненного пространства? Или чем-то еще?
Однозначного ответа нет. Одни именитые уверяют, что у людей старше семидесяти может «открыться второе дыхание» и не просто сохраняться, и развиваться интеллектуальный потенциал. Другие, еще более именитые, утверждают, что в эпоху гаджетов дети и даже внуки куда смекалистее представителей старших поколений. А, если взглянуть шире, то, что может дать жизненный опыт старших поколений, в мире который так текуч и изменчив? Не становится ли этот опыт подобием обучения штыковому бою в мире дронов и ракет?
И что мы видим на практике? – Пенсионный возраст оказывается палкой о двух концах. Сплошь и рядом под предлогом достижения этого возраста от новоиспеченных пенсионеров и тех, кто постарше, стараются избавиться прямо – дорогу молодым! А можно избавляться и иначе – меняя правила игры и формы ценимых работодателем бумажек. – Мол, не тот у Вас диплом. Это раньше был тот. А сейчас вот нет. Но это отдельная тема. Скорее для «Кабачка 13-ти стульев», Жванецкого и Задорнова.
Мы же попробуем вместе с Вами взглянуть на проблему с высот мировой истории. Как, где и отчего зависело отношение к возрасту?
В так называемых отсталых обществах, сообществах с огромными экономическими трудностями, где добыча пищи была каждодневным вопросом жизни и смерти, старики и калеки воспринимались, как обуза. И от них старались избавиться. Не обязательно было убивать прямо. Вспомним вновь японские фильм и роман о горе Нараяма, куда сыновья относили умирать стариков и старух. Это был целый ритуал. Целая религия.
Заметьте в истории шла речь не об Японии каменного века, палеолита, а о Японской деревеньке, которая судя по всему, была ровесницей многообразным тюркским сообществам, включая и уже формировавшихся собственно казахов с совсем иной системой ценностей (в данном отношении). Так что, обратите внимание, дело тут не только в хронологии.
Правда, в древнейшие времена либо в определенных регионах, когда вставал вопрос о власти, с геронтократией боролись довольно прямолинейно. В Африке были племена, где и утрата зуба вождем могла быть плохим для него знаком. А если уж остывал его мужской пыл к женам, то от такого следовало избавиться. Вождь – то еще и воин, и охотник, и колдун по совместительству. А что это за колдун, если жену оплодотворить не в силах?
И, тем не менее, стали наступать времена, когда отношение к возрасту начинало меняться. И в самых разных регионах. Даже о Спарте, обычно изображаемой, как полис с бедной культурой, современники говорили: «Только в Спарте выгодно стареть». Стариков уважали.
Это оказалось уместным и по причине традиций, в силу которых старики были хранителями исторической памяти и живыми образцами воинской славы, и в силу экономических возможностей. Труд полурабов илотов давал возможность не избавляться от тех, кого относили к старым. И не только не избавляться, а превратить их в важный элемент жизни полиса.
А теперь взглянем на кочевые и многие иные культуры с культом предков и с определенного рода уважением к старости. В технических и многих других отношениях и Казахстан позапрошлого века, и множество иных стран, конечно же, были отсталыми в сравнении с Европой и быстро растущими Штатами. Но сама отсталость эта была относительной. Идеалы отношения к «аксакалам» свидетельствовали не просто о «широте души народа» – это все общие слова, слова – пустышки. А о чем же тогда? – О том, что за столетия были созданы сообщества, в которых при всех лишениях, несправедливостях и прочем, экономически могли поддерживать жизнь аксакалов. И, опять-таки, – не только поддерживать, а воспринимать ее, как важнейшую составляющую жизни общества, рода. Ведь, помимо прочего, аксакалы – хранители исторической памяти в обществе, где даже для семейно-брачных отношений, для продолжения рода чрезвычайно важно знать свою родословную. Да и внуков растить, кому, как не старикам? Кстати и сегодня у нас, в Казахстане (не у чиновников), а у студентов, в том числе и у тех, кто учился годы и годы тому назад, самое уважительное отношение к преподавателю…
Но жизнь-то не стоит на месте. Европеизация, вестернизация, сначала в форме советизации, а сейчас еще и под флагом глобализации, стали мировыми феноменами. Отсюда и смена ориентиров. Так, в Советском Союзе уже в 20-е – 30-е годы делалась ставка на молодость и даже детскость: «Другим странам по сто… А наша страна – подросток. Твори, выдумывай, пробуй!»
И отчасти поэтому, и потому, что разворачивалась культурная революция и был взят курс на всеобщую грамотность, молодежь, включая и детей, могла мобильно нести в жизнь старших новое. Правда, и отношение к старшим было не линейное: «Молодым везде у нас дорога! Старикам – везде у нас почет!»
Конечно, это всего лишь лозунг. Но, как и в «архаичных обществах» старшие не просто формально чтились, но и использовались и в работе огромной пропагандистской машины, и в ряде сугубо практических дел, соотносимых с педагогикой и рядом конкретных профессий.
Ну а сегодня? – Сегодня отношение к старости, к людям старшего возраста становится колоссальной проблемой, проблемой, которую, как и прежде, нельзя одним махом решить раз и навсегда.
Отмечу только две ее грани. Первая – наполнение жизненных пустот смыслами и соответственно делами. Это принципиально и для самих пожилых и стариков, и для общества, государства.
Это крайне значимо и для общества в целом, и для государства. Ведь именно представители старших поколений являются наиболее активной частью электората и важнейшей составляющей общественного мнения. Достаточно напомнить, что молодежь не только читает меньше, но, судя по студентам, милым и умненьким, и телевизор смотрит мало. То есть и пресса, и телепропаганда – это в огромной степени то, что идет мимо молодых, но впитывается теми, кто старше. Уже молчу о том, что старики и пожилые исправные пополнители бюджета и т.д.
Вторая грань – особенно болезненно воспринимаемая – это рациональное использование с точки зрения общества знаний, умений и навыков представителей старшего поколения. Конечно же, и сегодня молодым нужна дорога. Но есть сферы, где в связи с массовой миграцией и другими причинами специалистов просто не хватает. Труд же тех, кто еще мог бы быть полезным в своем деле, используется в должной мере далеко не всегда. В итоге страдает и общество, и молодежь, которую в той же сфере образования искусственно отсекают от ветеранов, тем самым буквально грабя ее. Увы, это не секрет, хотя, думаю, можно найти опровергателей, которые попытаются доказывать обратное. Но дело-то не в споре, и не в отдельных примерчиках, а в том, чтобы разумно использовать максимальное число тех членов общества, которые готовы и способны быть этому, нашему обществу полезными.
КТО ОБРАЗОВАННЕЕ?
Совсем недавно мне довелось оказаться на встрече в одной из школ города. Были и школьники, и ветераны. Один из аксакалов, человек, причастный к образованию прежних лет, с гордостью и одновременно с болью сказал, что у него 8 детей, а, включая внуков и правнуков – 32 человека, обязанных ему своим рождением. Но он боится за их будущее, потому что считает сегодняшнее образование низким.
И буквально через считанные дни мне же посчастливилось на он-лайн встрече прослушать замечательный, емкий доклад известного социолога, где помимо прочего было сказано, что в современном Казахстане примерно к 2000-году выросло поколение, самое образованное за всю историю Казахстана.
Так кто же прав? И если прав, то в чем?
Всеобъемлющего ответа нет и у меня самого. Я просто предлагаю читателю поразмышлять вместе со мной. Начнем с простого. Вспомним одно из толкований слова образование на русском языке: «Образование, совокупность систематизированных знаний и связанных с ними навыков и умений, полученных в результате обучения в учебных заведениях или путем самообразования. Различают общее образование и профессиональное, начальное…, среднее и высшее, светское и конфессиональное…» (Энциклопедич. Словарь в 2-х томах. – Т.2, – М.:, 1964, с.117).
А чтобы поразмышлять о том, что «лучше» и что «хуже» попробуем вместе выделить критерии оценок.
Начнем с того, что образование, как и многое, многое иное может быть «лучшим» и «худшим» не само по себе и не в зависимости от числа выданных на-гора дипломов и сертификатов, а лишь по отношению к задачам, которые перед ним стоят.
1) По отношению к «велениям времени» и потребностям конкретного общества в тот или иной период его существования.
2) В зависимости о того, насколько оно способствует адаптации индивида к окружающему его миру.
3) Следующее примыкает ко второму – это обеспечение личных перспектив, включая карьерный рост, рост жизненных благ и т.п.
4) Расширение горизонтов (отчасти сливается с 3-м и 5-м).
5) Обогащение «внутреннего мира», заполнение душевного и духовного пространства.
6) Примыкает к пятому. Это – подпитка мира эмоций и впечатлений…
7) Развитие интеллекта, критического и системного мышления…
Если коснуться потребностей общества и задач личной адаптации к окружающему миру, включающему и определенное сообщество, то вопрос о «лучшем» и «худшем» оказывается не только не простым, но и головоломным. «Темный» и неграмотный крестьянин, кочевник или таежный охотник может гораздо успешнее удовлетворять потребности «своего» социума» и быть гораздо лучше адаптированным к миру, в котором он живет, чем человек с тремя дипломами.
Соответственно и знания крестьянина, кочевника, охотника, рыболова могут быть более «целокупными», по-своему более системными, чем знания рабочего мануфактуры, конвейера и даже иного клерка. Более того, сам характер их жизнедеятельности требует гораздо большего числа конкретно значимых знаний, умений и навыков, смекалки, наконец. Нужно постигать и повадки животных, и мир растений, и метеоявления… Сама жизнь требует этого.
Сравните с все расширяющимся кругом милых и тоже необходимых молодых людей – студентов, студенток, выпускников колледжей и вузов либо не выпускников. Кто в магазинах следит за порядком, кто в официантах, кто даже за компьютером сидит, выполняя очень ограниченное число операций.
Совокупность объективно требуемых от них знаний, умений, навыков, действий, нуждающихся в смекалке, мизерна в сравнении с тем, что требовалось от кочевника, охотника и крестьянина. Тут, пожалуй, (речь идет пока не об аудитории) советский студент имел преимущество перед современным. Советские студенты на каникулах работали и в стройотрядах, и вожатыми и воспитателями в пионерских лагерях и на детских площадках… Неоднократно бывали на сельхоз работах. Все это требовало развития самых разнообразных умений и навыков.
А сегодня? – Студенты сплошь и рядом «подрабатывают» в период учебы и за счет учебы. Но какими способами? – Одно дело, когда будущий медик подрабатывает санитаром, и совсем другое – когда будущий журналист и сам по себе хороший студент тратит лето на стояние в магазине. Не продавцом, а просто наблюдателем. Он и вежлив. И приятен. Но насколько, таким образом, он обогащается для своей дальнейшей жизни?
В целом же для меня эта составляющая вопроса остается открытой. Я не обладаю данными о том, посредством каких основных для них видов деятельности студенты подрабатывают себе на жизнь. Знаю только из своего, естественно ограниченного опыта, что нередка парадоксальная ситуация, когда студент (если родительской помощи недостаточно) зарабатывает деньги на оплату учебы за счет того времени, которое он должен бы потратить на это самое обучение в учебном заведении.
И в советское время было немало метаний, не все и не всегда соответствовало «духу времени» – время-то нигде не стоит на месте. Но само бесплатное обучение при сотнях попутных проблем в принципе оставляет больше времени и сил для собственно учебы. Слава Богу, что для какой-то части сегодняшних студентов есть и гранты…
Очень не проста и проблема «расширения горизонтов». Она буквально срастается с проблемой «избыточных знаний». Избыточное в узко профессиональном отношении может не просто обогащать «внутренний мир», но и расширять горизонты активной жизнедеятельности. Таким «расширителем» – когда удачным, когда – псевдоудачным – был, к примеру, комсомол.
Что же касается «богатства внутреннего мира» и расширения окон в миры эмоций и представлений посредством литературы, музыки, изобразительных искусств – то это особая, практически, причем личностно, очень значимая тема. Отдельная тема. Попробуйте только поразмышлять над словами Экзюпери, которые я для истолкования часто привожу студентам: «В пустыне ты стоишь то, чего стоят твои божества»…
И, наконец, о развитии интеллекта, системного и критического мышления. Как и в советское время, сегодня в разных учебных заведениях многое по-разному. Но, боюсь, что колоссальный удар по развитию такового мышления нанесла повальная тестизация и еэнгизация школьного образования, когда тесты из игрового элемента учебы стали превращать в базовый критерий образованности.
Поразмыслите сами. Скажем, на примерах истории или физики. В чем великое назначение истории при всех спорах о достоверности тех или иных суждений и «переписывании истории»? – Подобно философии, история, как наука и учебная дисциплина, значима тем, что приучает следить за взаимосвязью процессов и явлений и их последовательностью. Историк – не тот, чья голова, словно склад, перегружена разрозненными предметами, а тот, кто учится мыслить критически и системно. И только ли историк? – Акцентирование же внимание на тесты, а в вузах – на доведенное до пародии «государственное тестирование», достойное Задорнова и Гоголя вместе взятых – бьет по самим основам системного и аналитического мышления. Ну, как Вы сможете вырастить мастера-портного, если будете оценивать его класс не по умению шить платье или брюки, а по способности играть с разрозненными лоскутками?
Я не собираюсь огульно хаять современное образование. Как и особо хвалить. Оно неоднородно. Я лишь о том, что прежде, чем что-то сопоставлять, надо бы продумать те критерии, на основе которых мы сопоставляем. А такое продумывание невозможно без учета того, какое именно образование востребовано сегодня именно у нас и что, как, и для чего уместно заимствовать от «других»?
НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ИСТОРИЮ В БИКФОРДОВ ШНУР
Я из тех, чья жизнь сопряжена с погружением в историю. И на рубеже 24-го – 25-го годов начала нынешнего тысячелетия эта погруженность воспринимается особенно остро. Тем более, что мы в современном Казахстане живем еще в далеко не худшее, но драматически напряженное время. Время повышенных рисков в глобальном масштабе. Рисков, усугубляемых целенаправленным, глобальным подогреванием проблем межэтнических и межнациональных отношений. Об этих проблемах, кто только не глаголет и в привычных СМИ, и в интернет-пространстве. Я же хотел бы здесь напомнить лишь одну, но важнейшую грань этих проблем – грань не просто психологическую, а психиатрическую. Для желающих познакомится с ней основательнее, можно было бы посоветовать лекции Михаила Решетникова. Хотя и с оговоркой: сам я его исторические экскурсы в советское прошлое и прошлое Украины во многом оспорил бы. А вот проблемы психологии масс и даже состояний массовой психопатологии стоят того, чтобы и нам с Вами над ними задуматься всерьез.
Эти проблемы напрямую связаны с играми и фокусами с Исторической Памятью. Казалось бы, народ без памяти о прошлом – народ без будущего. И это так. Но – какой памяти? И каким образом преподнесенной? И с каким «вторым планом»?
Вопросы не риторические. Ведь на практике фрагментизированную и препарированную Историческую память многократно использовали и продолжают использовать для разжигания межнациональной и иной ненависти. Да и не только для этого. В современной психологии такой перенос связывают с понятием «избранная травма».
Что это значит? – То, что из прошлого вспоминаются наиболее травмирующие эпизоды. Эпизоды, которые при этом могут и сознательно выбираться. Это и кровавые столкновения между представителями разных народов и конфессий, и факты, либо легенды, сопряженные с социальной или иной несправедливостью, с теми или иными унижениями.
При этом может осуществляться то, что при соответствующей эмоционально-образной подаче событий прошлого психологи называют «сгущением и смещением во времени». Причем подобное может достигаться и средствами реального искусства. Как, например, в фильме «Александр Невский», когда «в воздухе пахло грозой» и угроза именно со стороны нацистской Германии специалистами воспринималась, как одна из самых вероятных. В такой обстановке кинематографическая схватка новгородцев с орденом, схватка дней, давно минувших, эмоционально воспринималась, как что-то, почти вчерашнее. И тогда это было и объяснимо, и исторически оправдано, потому что столкновение с нацизмом ощущалось неизбежным.
Но очень часто, уже в современном мире акцентирование внимания на былых обидах, сценах жестокостей, то исподволь, то более прямо, ведут к опасному подогреву эмоций, который можно использовать для разжигания новых конфликтов, не сдерживаемых: ни привычной моралью, ни доводами разума. Поэтому-то я сам резко против публичного, а то и учебно-публичного «полоскания грязного белья» прошлого либо слишком бравурного прославления «побед» над соседями в давно минувшие либо даже совсем недавние времена. Почему? – Да потому, что, как заметили те, кто чувствует тоньше меня: отточенная, как саперная лопата для рукопашной, память о старых могилах, может быть использована для рытья новых могил.
В наших конкретных условиях и драмы времен царизма, и трагедии Гражданской, голода и репрессий – все это место действия профессиональных историков, а не политиков и публицистов, желающих повысить свой рейтинг. И попутно решить какие-то свои личные проблемы. Поигрывание же ими чревато новой кровью.
Тем более, что и в профессиональном плане такое поигрывание несостоятельно, по той простой причине, что в сундучках истории всегда можно сыскать примеры того, как кто-то с кем-то поступал и несправедливо, и жестоко. И, если просчитывать взаимные обиды, то боюсь, и нынешний искусственный интеллект, заплутает в дебрях.
И, как это не печально, таким «поигрыванием» занимаются все чаще люди интеллектуального труда, прежде всего гуманитарии, и даже историки, историки-профи.
Правда, тут мне могут сказать, что и в советское время не все бывало гладко. Именно в плане «сгущения и смещения во времени». Вспомним 1980-й год, шумные воспоминания о Куликовской битве. Битва эта, как и многие иные драматические и обросшие легендами события прошлого, заслуживает место и в художественной литературе, и в искусстве. Но помпезность и масштабность эффектно декорированной исторической памяти по своей эмоциональной сути контрастировали с ситуацией в СССР – стране, охватившей огромную часть Евразии. Ведь и столкновения кочевников и оседлых, и, в частности, та же самая Куликовская битва, были для той, тогда еще единой страны, внутренними событиями. И помпезно славить победу одного из участников таких бесчисленных и разнообразных взаимосвязей и столкновений, примерно то же, что для англичан могло бы означать восславление битвы при Гастингсе, а для французов – чьи-то успехи в Бургундии, либо успех крестовых походов на юге Франции. Походов, направленных на искоренение ересей.
Увы, 1980, как примыкающие к нему годы, был временем, когда стали истощаться эмоциональные резервуары официальной идеологии. Идеологии, становящейся все более пресной и все менее затрагивающей живые чувства многих людей. Вот и использовали Историческую память, как суррогат эмоциональных возбудителей – нечто вроде современных энергетических напитков.
Но тогда, при всех перехлестах и желании оказаться «в тренде», подобные «апофеозы» не подталкивали к практическому противостоянию представителей разных этносов. Мне самому вместе с родителями довелось годы жить в одной общей квартире с татарской семьей. И никакие главы учебников, никакие рассказы об иге, и прочем никак не влияли на наши отношения. Мы и до сих пор встречаемся с повзрослевшими детьми бывших соседей очень по-доброму. А уж о татарочках – и говорить нечего! Тут уж, наверно, дают о себе знать еще детские впечатления.
Но сегодня-то, в условиях глобальных сдвигов, игры с Исторической памятью куда опаснее, чем даже десятилетия назад. А ответственность людей интеллектуального труда либо тех, кто относит себя к таковым, несравненно выше. Ведь за любые трагические события отвечает не только тот, кто берет в руки камень, но и тот, кто подсказывает, что этот камень можно взять и кинуть в соответствующем направлении.
О ЗЕМЛЕ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯ И СО-ЗАВИСИМОСТИ
Эти размышления навеяны перепиской, перепиской интересной и подстегивающей мысль. Но предварить их я хотел бы упоминанием бунинских «Дней окаянных», прозвучавшем в одном из наших разговоров. Могут ли сегодня эти «Дни окаянные» стать для меня ключиком к пониманию той Гражданской войны, когда крушились и основы собственности, и многое, многое иное?
Эмоционально – да. И сегодня бьет по живому. Но в плане источниковедческом, а не идеологическом, к Бунину, как и Солженицыну, один вопрос: насколько отделимы здесь «фольклор», живые рассказы, в том числе и переданные «из третьих рук», от информации, достоверность которой более проверяема? Плюс еще один вопрос к Солженицыну, который гуляет давно, в том числе и по интернету: каким образом такой разумный и образованный человек мог в годы войны так «подставиться» в «антисталинских письмах», письмах, которые явно должны были бы пройти через цепкие руки цензуры?
В целом же вопрос о степени проверяемой достоверности и соотношения такой проверяемости с «информационными волнами», стереотипами и «матрицами» при передаче «информации» – это стержневой вопрос всей мировой истории.
Исходя из этого, бунинские и иные труды такого рода сегодня я воспринимаю лишь как штрихи к эмоциональной картине Гражданской. Суть ее в том, что красные были жестоки. Но и белые, и прочие тоже были жестоки. К тому же хорошо известно, какие человеческие массы, подобно Григорию Мелехову, метались то в одну, то в другую сторону.
Иными словами, даже относительно достоверное или стопроцентно подтвержденное знание такого рода само по себе не дает мне понимания логики процессов: те зверствовали, эти зверствовали. Но почему зверства одних пересилили зверства их многочисленных и разнообразных противников?
А вот «Железный поток», «Оптимистическая трагедия», «Как закалялась сталь» и даже фадеевский «Разгром», плюс в какой-то мере «Сорок первый», уже предлагают своеобразную нить Ариадны при движении по лабиринту информационно-эмоциональных блоков.
Они зримо рисуют, как у «большевиков» дикая стихия превращалась в Организованную Силу. Все очень просто, но логично. Та же способность к организации и самоорганизации делала на какое-то время непобедимыми и спартанцев, и македонян, и римлян. И воинство Чингиз-хана, и армии Железного Хромца.
Что же касается земли и собственности, включая и так называемую частную, то на грандиозных полотнах мировой истории наиболее известная нам форма «частной собственности», включающая и собственность на землю – лишь один из мазков. И в пространственном, и во временном отношениях. Как и «демократия», она исторически очень ограничена, и в перспективе у нее нет будущего. В современном мире все настолько переплетено, причем переплетено и «жилами живых людей», а сам это мир настолько взрывчато изменчив (как тут не вспомнить гегелевские «скачки…»!), что никакой индивид со всеми его милыми, но абстрактными правами, включая и право собственности, не может быть кирпичиком социального мироустройства.
Не покидающие же и меня лично, и тысячи других размышления о формах правления, вылились в неоригинальное, но довольно четкое предварительное заключение. Заключение очень простое. Демократия – феномен очень неустойчивый. Куда более неустойчивый, чем те или иных формы монархии или диктатуры. Настолько неустойчивый, что многократно мог и может сменяться диктатурой, и протомонархией даже без смены лиц, и не только лиц, но и каких-то структур. Просто меняются функции и т.п. И вождь становится диктатором и протомонархом или же монархом безо всякого «прото», а его сотоварищи из былой «военной демократии» – оплотом бронзовеющей монархии. Только-то и всего.
А вот обратный процесс – процесс трансформации монархии в демократию – именно, как форму правления, разглядеть в истории труднее. Монарх может быть демократически и либерально настроенным. Но так ли часто без сокрушения «основ», без социальных взрывов монархия трансформировалась в демократию? Хотя сочетаться с элементами демократии так называемая конституционная монархия вполне может. Да и с диктатурой не все линейно. Но это уже вопрос о многоликости Истории.
Что же касается форм зависимости, со-зависимости, различных аватар рабства и т.д., то и здесь, скажем, античное рабство, представляемое часто, как рабство «классическое» – лишь одна из многочисленных форм зависимости. Да и то: илоты Спарты – не аналог рабов в Афинах и т.д., и т.п. Один из блестящих образцов исследования такого многообразия – подзабытая сегодня книга В.Н. Никифорова «Восток и всемирная история» (2-е изд. – 1977), с которой посоветовал бы познакомиться каждому, кто хочет глубже понять проблему.
Завершая же, хотелось бы вспомнить банальное: есть история идей и история социальных феноменов. Вполне понятно, что они взаимосвязаны. Но все-таки у истории идей есть и свои пути, и свои методы анализа. Она требует четкости определений и критериев, той четкости, которая, используя образ А. Тойнби, словно сети, позволяет достигать определенных целей, но не в силах охватить всю реальность…
История же социально-исторических феноменов не просто богаче, но и «корявее», «непокладистее». Вспоминается курьезный пример, когда в 91-м мне довелось выступать на одной московской конференции или чем-то в этом роде. И я простодушно заметил, что модные в то время рассуждения о сталинской деформации социализма лишены логики. Ведь деформировать можно то, что уже есть. А в 30-е – 40-е советский социализм еще только «строился». Если уж и спорить о «деформации» и т.п., то лишь о «деформации» идеалов, идей, концепций. Кстати, на эту детскую мысль обратили внимание и в президиуме: «А ведь и в самом деле так!»
То же самое можно отнести и к «частной собственности», «рынку», «рыночной экономике» и многому иному. Все упомянутое – прежде всего понятия, слова, оперируя которыми, то пытаются уловить главное в тех или иных процессах, то, наоборот «запудрить мозги» словами, за которыми давно уже не кроется конкретного содержания. Куда ни глянь – и рынок какой-то не рыночный, и собственность вроде бы и частная. А вроде бы и нет. А то и вообще не собственность. Скажем, задумает кто-то сносить или перемещать по генплану (гибкому, как фигура акробатки) – и домишки ваши, и коттеджи, и киоски будут убраны с требуемых мест, и прочая, и прочая.
Частенько похожи картинки и с партиями. Именно поэтому я не приемлю Веллера, как интернет-пророка и неомудреца. И писатель он интересный. И подковыристый. И рассуждает напористо. Но когда он обрушивается на социализм и всякие там левые движения, то напоминает мне папского представителя времен войн с еретиками на Юге Франции. Когда того спросили, как поступать, врываясь в город, тот, не заморачиваясь, ответил: «Убивайте всех подряд. Господь разберет на том свете своих от чужих».
Так и тут – в «левые» и иже с ними сгрудились в обличающем сознании все подряд. А ведь здесь столько разнообразия! И столько имитаций! Приведу только один занятный штрих, связанный с нашей, казахстанской Народной Коммунистической партией. Ой, простите – надо бы точнее: Коммунистическая Народная партия Казахстана». Обычная карманно-декоративная партеечка, оказавшаяся даже в парламенте. И не только в парламенте. Ее представитель, кстати, сам по себе замечательный специалист, оказался, если не ошибаюсь, даже где-то там, в Сингапуре на масштабном слете левых. Правда, чтобы не дразнить неких либералов со временем, и «коммунистический» из названия убрали. Но местному отделению и это не помогло. Пришли дяди с верху и чисто по-демократически – по народному всех вычистили, заменив своими, присланными свыше. И вот думается: если наша «народная» партеечка» такова, то одна ли она такая на всех подобных форумах? И это, не говоря о том, насколько христианские те или иные партии так называемого Запада и прочая, прочая?
И если б только о словах шла речь! Так ведь и явления, скрывающиеся за их, часто картонными фасадами, разнообразны и далеко не плоски, как сами эти фасады. Но это – уже тема для отдельного разговора.
ПРОКАЗЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Без соприкосновения с историей наша жизнь была бы невыносимо скучна. Даже, если это прикосновение окутано легендами и художественным вымыслом. Не случайно же и мушкетеры, и пираты Острова сокровищ, а теперь уже и пираты Карибского моря, и Синдбад-мореход, и эпические герои самых разных народов стали частью исторической памяти, А историческая память – отнюдь не буквальный ксерокс реальных исторических событий. Причем она очень разнообразна. Так, по словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считают Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса – реально существовавшими» (р.263). Даже, если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.
Но и там, где и персонажи, и события вроде бы были взяты не со страниц романов либо из легенд, тоже кутерьма. Интернет же вовлекает в эту кутерьму тысячи. То бьет в электронные колокола с криками: советские (или какие-то еще) историки нас обманывали. Замалчивали», и прочая, то открывает будто бы до этого никому неведомые страницы истории. – И в головах сплошная чехарда.
А дело во многом в том, что и историческая память, и «Суд Истории» всегда избирательны. В зависимости от «сезона» из шкафов и сундучков истории вытаскивается то одно, то другое, что отнюдь н означает, что вся мировая история – царство перманентной лжи.
Мне, к примеру, не раз приходилось слышать, причем от людей образованных, хотя и не историков, что в столетие куликовской битвы были сражения и покруче. И масштабы не те, и значимость иная. Скажем сражения, в которых Тамерлан громил Золотую Орду.
Но тут дело-то не в масштабах фантазии или чьей-то «сплошной лжи». Просто есть события знаковые и «реально значимые». Куликовская битва исторической памятью, обтесываемой спецами, была превращена в «знаковую». Как Бородино, Фермопилы и многое иное. И сама эта «знаковость» не высосана из пальца. Но реальная историческая значимость этой битвы, пожалуй, не сопоставима со «стоянием» на реке Угре, когда безо всякого грандиозного и опоэтизированного кровопролития Иван Третий не дал так называемому «татарскому войску» переправиться через реку. Почему? Да, хотя бы потому, что через два года после Куликовской битвы Тохтамыш обманом взял и сжег Москву, после чего только захороненных тел было 24 тысячи.
Да и со значением грандиозных побед Тимура не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Он сокрушал ордынское воинство? – Да. Но и Ганнибал неоднократно громил римлян. А Рим устоял. Тимур жег ордынские города и села. Но и задолго до Тимура, в 13-м веке Киев подвергся чудовищному разгрому, да и Казань, и Москва громились не раз. Но возрождались. А что держава Тимура? – В отличие от Московии, превратившейся со временем в Россию и т.д., она оказалась лишь мимолетной зарницей на полотне истории. Поэтому и историческая память оказалась и к ней, и к сокрушаемой внутренними сумятицами Орде, менее благосклонной. Историю в буквальном смысле слова пишут победители.
Причем и в реальной истории далеко не все определяется масштабами боен или грандиозностью изначальных замыслов. Военные достижения собственно Пророка были крохотными, если оценивать их по пролитой в столкновениях крови. Однако они обрели мировое значение, которое просто невозможно отрицать.
Так мы подходим к еще одному капризу исторической памяти, обыгрываемой пропагандой, – не слишком разумной, если исходить из элементарной логики, а не воздействия на эмоции.
Я тут, пожалуй, далеко не первый, но, вдумайтесь: сколько десятилетий суматошно споря в вкладе той или иной стороны в Великую Победу, авторитетные историки и пропагандисты в качестве весомейшего аргумента приводят соотношения потерь. Вот мы, мол, потеряли 27 миллионов (есть исследователи, которые считают, что СССР потерял 20 и даже 16 млн., что тоже очень много). А Вы? – США где-то 400 тысяч или что-то в этом роде. И т.д., и т.п.
Наши жертвы, как и жертвы народов других стран – это общая боль. Но, вообще-то реальный вклад в нечто, определяется не тем, сколько погибло людей, и затрачено сил и средств, а тем, что достигнуто. Успехи Советского Союза и в самом деле были грандиозны. Причем их грандиозность оплачивалась не только обильно пролитой кровью. На Дальнем Востоке сравнительно малыми жертвами было в 1945-м достигнуто очень многое. Однако. Неутомимое упоминание о масштабах потерь само по себе еще не говорит о собственно успехах…
Завершить же эти беглые наброски хотелось бы тем, что могло бы и раздразнить историческое воображение. Почешите затылки сами: не курьез ли это?
В Казахстане нас призывают гордиться тем, что казахстанцы – наследники Золотой Орды. Но Золотая Орда – это значимая часть так называемой империи Чингиз-хана. Войска Чингиза и его полководцев, разгромили союзное войско половцев и русов при Калке, прошлись огненным катком по Великой Степи, сокрушили Отрар с его богатейшей культурой. Каким бы ни был племенной состав этих сил, чингизиды пришли в Великую Степь, как завоеватели. И все-таки сопричастность с ними рождает гордость. Я тут не говорю о тех, кто у нас относит себя к потомкам Чингиза. Они-то вправе помнить о своем родстве. А остальные? Тоже, конечно, могут гордиться причастностью к Великой империи, которая их покорила и принесла свою государственность.
Но вот история с государственностью «Киевской Руси» на этом фоне видится совершенно фантасмагоричной. Кому и как гордиться казахам и тюркам в целом – это их дело. Но вспомните и сопоставьте с пиететом по отношению к истории Орды, прямо таки ритуальные пляски вокруг так называемой норманнской теории происхождения древнерусского государства.
Норманны, пользуясь своей сплоченностью и подвижностью, прошлись по побережьям немалого числа стран. В 1066 г. (если память мне не изменяет) одолели воинство Британских островов. Во Франции есть даже в память об их успехах Нормандия. Доходили они и до Северной Африки и т.д. Доходили, как завоеватели.
Я, конечно, многого не знаю, но что-то пока не вспомню, чтобы в Нормандии и так далее, как-то особо стыдились того, что их когда-то били и подчиняли северные варвары, создававшие после побед то те, то иные государства или их подобие.
А что российские и даже советские историки? – Еще с первого курса помню весь этот шум вокруг «варягов», которых якобы попросили: придите и правьте». Но не забавно ли? Те, кого завоевывали, не стесняются былых завоевателей. Да и чего стесняться и стыдиться? – Дело прошлое. После этого столько всего перемешалось.
Русь же, согласно полулегендарным источникам, не завоевывали. Просто пришли служить.
Потом, как это часто бывало, слуги, сблизившись с местной знатью, сами стали господами, а скандинавская либо западно-славянская кровь давно растворилась в жилах потомков, названных украинцами, русскими. Да и только ли ими?
Не правда ли, забавные сопоставления? – Сопоставления, подталкивающие к мыли о том, что, чем чаще Политика «влазит» в чертоги Истории, тем забавнее, а то опаснее, иные курьезы Исторической памяти.
РЕЛИГИЯ И МИР НАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В одном из докладов наших казахстанских социологов (намеренно не даю ссылку, суть не в фамилии и теме) помимо прочего была затронута и проблема роста религиозности среди молодежи. И сам доклад был насыщенным, и проблема значимая. А вот выводы-предположения показались мне и занятными, и поучительными.
Докладчик (точнее, выступавшая), ссылаясь на зарубежных исследователей и упоминая «пирамиду Маслоу», пришла к выводу, что отмеченный рост религиозности можно объяснить ростом благополучия в последние десятилетия (воспроизвожу своими словами, но суть, как мне кажется, привожу достаточно точно). Логика же здесь такова: удовлетворение «первичных» и «базовых» потребностей позволяет более полно удовлетворять и потребности иные: обеспечив безопасность и удовлетворив чувство голода, можно и о «духовности» подумать. Эта логика напоминает упрощенно-марксистскую логику соотношения базиса и надстройки.
Я – человек светский, участие в тех или иных религиозных действах, сопряженных с разными конфессиями, для меня знак элементарной вежливости. Ведь Казахстан – место скрещения разных религиозных и нерелигиозных традиций. Но удовлетворение религиозных потребностей понимаю отнюдь не как нечто, следующее за удовлетворением потребностей в «хлебе насущном».
Исторически, причем на протяжении тысячелетий, религия не была чем-то вторичным по отношению к экономике и прочему. Это аксиома и объективного светского религиоведения. Бесчисленными способами религия вплеталась в самые разные сферы жизни, сопрягаясь при этом с глубинными, экзистенциальными проблемами человеческого существования.
Конечно, чтобы строить храмы, совершать обряды, надо иметь возможность и строить просто жилища, и питаться, и обеспечивать свою безопасность. Но обеспечение всего этого в сознании людей связывалось именно с религиями во всем их многообразии.
Центральные проблемы – проблемы жизни и смерти, здоровья и болезней, могут заглушаться, но при этом не снимаются внешним благополучием. Да и производственные процессы, военные действия веками в сознании и подсознании людей были не отделены от религиозности и определенных ритуалов. Человек молился, совершал такие-то и такие-то обрядовые действия именно для того, чтобы обеспечить удовлетворение самых, что ни на есть насущных потребностей.
Но это было в прошлом. А как сейчас? И не где-то, а именно у нас? – Вот тут-то социология заставляет призадуматься.
Очевидно, что современное промышленное производство, да и многие сферы быта в традиционной ритуализации не нуждаются. Если у Вас проблемы с электричеством, то вы обратитесь не к батюшке, мулле или шаману, а к электрику. Да и клерк, стремясь быть угодным начальству, станет опираться не на священные книги. Хотя уже с сельским хозяйством все сложнее. И в новейшее время, когда долго нет дождя, могут резать темную корову, стремясь удовлетворить тем самым сугубо практические потребности в сфере сельскохозяйственного производства.
Дальше же – все запутаннее. В годы перестройки открыли все шлюзы. И под видом религии на тогда еще единое советское пространство чего только не хлынуло. Причем это самое «чего только» интенсивно сдабривалось откровеннейшей «чернухой» и «порнухой». – Такой коктейль, такой «ерш», что мог закружить голову любому из нас. Так головы и кружились. И это круженье помогало разрушать страну.
Возвращаясь же к размышлениям о потребностях, вспоминаем банальное: «запретный плод сладок». Действовали усталость от штампов и тяга к новому, еще вчера запретному или полузапретному.
Потом это новое начало процеживаться, входить в определенные русла, берега которых нередко стали окаймляться еще более примитивными штампами.
А при чем здесь рост религиозности? – Очень даже причем. Только надо оговориться, что это уже рост не абстрактный, а очень четко «структурированный» и направленный.
Поразмышляем совместно над некоторыми факторами, обуславливающими его своеобразие.
Первое – это вакуум после краха целостной идеологической системы. Большевики, используя опыт столетий, сумели очень быстро начать его заполнение по-своему стройной и целостной системой, обратной стороной которой со временем становилась ее чрезмерная жесткость, вступающая в противоречие с растущей образованностью населения и, прежде всего, новых поколений интеллигенции.
Сегодня же, в мире информационной многоголосицы и разноголосицы заполнять такой, очередной вакуум оказалось гораздо труднее. Религия же в возникшей ситуации оказывается уже и более привычным, и более целостным заполнителем вакуума, чем иные, спешно испеченные модели…
Во вторых, в условиях распада огромной страны и появления диаспор, оказавшихся отделенными государственными границами от своих вчерашних соотечественников, религия становится одним из значимейших средств идентификации – самоопределения и одновременно нитью, личностно связывающей человека с культурой, не вмещающейся в узкогосударственные границы.
Сходна роль религии и не для диаспор. Скажем для казахов – ислам. В условиях метущейся идеологии и не устоявшихся в душах образцов, религия становится той основой, в которой ищут опору. Если же присовокупить к этому шаткость геополитической ситуации во всем мире, то потребность в такой опоре становится еще более осязаемой.
И вот тут-то мы сталкиваемся с тем, что побуждает не столь критически относится к социологии – с феноменом моды, когда немалая часть обращений религии, ритуалу на самом деле сопряжена не столько с болями, с поисками смыслов, а с тем следованием моде, которое возможно при определенном благополучии: нищие ни шикарные свадьбы, ни поминки на сотни присутствующих просто физически не способны провести. Да и растущее число девушек и женщин в мусульманских одеяниях, вплоть до практически полного закрытия лиц тоже дитя очень непростого феномена, сопряженного с модой и определенным достатком. Ведь такая, Обособляющая одежда, требует и особых денег. Хотя с точки зрения традиций, скажем, именно Казахстана, никабы и др. никак в эти национальные традиции не вписываются. Примечательно, что такие одеяния могут дополняться большими темными очками, и в одном из центральных супермаркетов нашего города в отделе мусульманской одежды, наряду с платками… можно было видеть и модные темные очки. Хотя совершенно понятно, что во времена Пророка очков не было.
Но и мода может сочетаться у кого-то с поисками смыслов, а отдельные направления религиозности могут использоваться и активно используются при обыгрывании неприятия социальной несправедливости – того неприятия, которое на протяжении столетий периодически использовалось в периоды социальных взрывов.
И, конечно же, все это многообразие, лишь вскользь упомянутое здесь, надо и изучать, и изучать, и осмысливать, учитывая и разнообразный мировой опыт, и наше своеобразие.
СОЗИДАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
О «созидательном разрушении». Алгоритмы и эстафета мысли
Это эссе навеяно книгой американского социолога Стива Фуллера, автора книги «Постправда. Знания как борьба за власть», книги, заслуживающей, по меньшей мере, серии эссе, предназначенных для соразмышлений с читателем.
Главное, что меня самого «зацепило» даже не сама тема, кажущаяся довольно банальной, а проблема переклички эпох и континентов. Что в этой перекличке сопряжено с алгоритмами и повторяющимися проблемами, что – с эстафетой мысли, образов, напоминающей известные литературоведению «бродячие сюжеты»?
Что здесь допускает сопоставления, а что – делает их сомнительными? Вспоминается два момента. Первый, связанный с закрытым рецензированием моей книги «Человек. Судьба. Вселенная. Глазами древних мудрецов». Один из рецензентов заметил (поскольку это эссе, воспроизвожу по памяти суть, а не цитирую точно), что у Бондаренко и греки, и китайцы чуть не одно и то же, пишет же он о том, как тесен мир и т.д. Но любому мало-мальски сведущему известна тьма фактов о колоссальных различиях их культур.
«Конечно, известно, – размышлял я. Но есть же и общие болевые точки, схожие проблемы, которые сближаю. Иначе, любая культура, любая эпоха была бы для нас не просто абсолютизированной кантовской «вещью в себе», а подобием лейбницевской монады».
Размышлял, вроде бы логично. Но вот соприкоснулся с веллеровским «князем и ханом», и самого заело. Лихо пишет блестящий по языку и напористости литератор о том, что люди и в средневековье хотели быть счастливыми, переживали и т.д., и т.п., – так же, как и мы.
Хотели – то хотели, но и устремления, и понимание вины, счастья и многого иного ой как отличалось от наших образцов. За сходными словами крылось множество колоссальнейших различий. Не случайно, еще задолго до знакомства с задиристой книгой Веллера, устремившегося вслед за Сулейменовым на переседланном для прозы Пегасе в царство ученых историков, я оказался в числе тех, кто тоже размышлял над «исторической психологией», что и вылилось в практически никем не раскрытой «Тайне Атоса».
Ну, подумайте сами: граф де ла Фер – человек чести. Как бы повел себя муж рядом с женой, упавшей в обморок после того, как, разорвав для облегчения дыхания платье, увидел на ее теле нечто вроде нынешнего тату? И вспомните, как повел себя Атос? Вспомните и бесконечное число таких поступков и проступков, которые рождали потрясающие личные переживания в иных культурах и в иные времена, и которые в целом ряде современных стран не родили бы практически никаких особых эмоций?
Уже одно только это демонстрирует и остроту, и опасную многогранность проблемы сопоставлений. Проблемы, которую, тем не менее, нельзя просто так обойти.
С упомянутым для меня тесно сплетается не только это, а и собственно проблема доминирования так называемой современной западной философско-социологической мысли. Вот с нее и хотелось бы начать.
Уже довольно давно у меня зародилось становящееся все менее смутным ощущение того, что в какой-то мере доминирование западной социологически-философской мысли напоминает нечто явственно наблюдавшееся во время ковидной круговерти. Для множества поездок «за …» нужны были именно «файзеры» и иже с ними, но не «Спутник» либо какая-то иная «внезападная вакцина». Не суюсь в медицину. Там, как и в футболе, и без меня понимающих тьма тьмущая. Но становится уже банальным умозаключение, что отбор мер по борьбе с… в целом и вакцин, в частности, был во многом далековат от решения собственно медицинских проблем. Так же, ка борьба с допингом в спорте и т.д., и т.п.
Не можем ли мы соприкоснуться с чем-то подобным и в сфере не просто публицистики, пропаганды, а так называемой строгой научно-философской мысли? Нет ли и тут шлагбаумов и знаков дорожного движения, которые просто – напросто сопряжены с «крышеванием» своих? Не скрываются ли за требующими очередного заучивания терминами понятия и феномены, которые в принципе уже были известны иным эпохам и культурам? Как своеобразие и реальная новизна (там, где таковая есть) сочетается с уже существовавшим, но обряженным по новой интеллектуальной моде?
Вот на эти странные сомнения наводит (как иллюстрация) и совершенно замечательная во многих отношениях книга Фуллера. И дело тут не столько в сомнениях, сколько в проблеме «расширения горизонтов».
Поясню: все, здесь написанное само по себе банальность, пока мы входим в миры политических фасадов, бомондов , СМИ… Уже школьник скажет, что за всяким шумом и суетой кроются чьи-то интересы.
Но, когда мы соприкасаемся с мирами философии, философии науки, социологии и культурологии, то тут их явная вестернизированность и зауженность кажется не такой уж очевидной. Поэтому-то и «расширение горизонтов» здесь понимается не как буквальное отождествление нового с «хорошо забытым старым», а как одна из возможных попыток взглянуть на новое, современное с высоты столетий, вспоенных многообразием культур. Причем таким многообразием, сквозь которое, как сквозь многообразие пород и особей, проглядывают и возможные общие черты.
И Фуллер здесь очень удобен, как одна из исходных точек для такого взгляда на мир. Да, он опирается на проблемы бизнеса и современного капиталистического общества в целом. И тут желающие могут сами не просто углубиться в его книгу, но и акцентировать внимание на главе «… от суперпрогнозирования к форсированному правлению». Мы же только сосредоточимся на связке: Созидание и Разрушение.
Сам Фуллер, прикасаясь к этой связке, вспоминает непритязательную остроту Иосифа Сталина, «не разбив яиц, не приготовить омлет», и добавляет: в 40-з годах эта мысль приобрела более ясные очертания. В том числе благодаря популяризированному Шумпетером понятию «созидательного разрушения», выражающему ключевой смысл предпринимательской инновации и саму энергию беспрестанного омоложения капитализма благодаря созданию новых рынков на основе старых… Но эта мысль о связи творчества и разрушения была намного убедительнее прояснена Дж. Робертом Оппенгеймером, которому, когда он присутствовал при первом взрыве атомной бомбы, вспоминалось индуистское божество Шива, «созидатель и разрушитель миров»…
И в созидании, и в разрушении, – продолжает Фуллер, – есть два ключевых момента применения силы: концентрация ресурсов и стратегическая фокусировка. Конечно, – добавляет он, – разрушение может быть созидательным только для тех, кто, пережив его, усиливает свои позиции (1, с.328). Как тут не вспомнить знаменитое ницшевское: «Все, что не убивает, делает меня сильнее»..., и суворовское: «За одного битого двух небитых дают». Конечно же, подход Фуллера и тех, кого он обильно цитирует в книге, не просто имеет право на существование, но и дает богатейшую пищу для мысли. И при всем этом Фуллер напомнил мне сравнительно недавнюю (с точки зрения столетий) долбежку ленинского открытия «закона неравномерного открытия капитализма». Да, конечно же, капиталистические страны развиваются неравномерно. И тут Ленин абсолютно прав. Стоит только добавить, что и некапиталистические страны на протяжении всей истории человечества развивались неравномерно, равно, как и ныне, когда шумят о посткапитализме, развитие разных стран и регионов идет неравномерно.
Нечто похожее мы видим и в «созидательном разрушении», – и как в идее, и как в дробящихся и ветвящихся тенденциях мирового развития.
Если говорить об идее, то она очень стара. Еще старинная восточная мудрость гласила: «Чтобы вырос новый лес, надо выкорчевать пни». Более того, вся мировая культура пронизана многоцветными порослями идеи беспощадной борьбы Созидательно-Разрушительно Нового со Старым. Вспомним античную мифологию. Там боги новых поколений немилосердно сражаются со старшим поколением богов. Молодые вожди и владыки, уже далеко не только в античной, но и мировой культуре во всем ее многообразии, прорываясь сквозь препоны, минуя смертельные ловушки, созидают, разрушая старое и устоявшееся». И уже в Евангелии звучат слова Христа: «Заповедь новую Аз даю вам».
Таким образом, и идея Революции, от которой стало привычным чуть не повсеместно открещиваться: «Чур меня!», органически вписывается в русло более масштабной идеи Созидательного Разрушения. Эта идея может привлекать либо нет, в ней наш горький исторический опыт усматривает немало изъянов и блики иллюзий, но она не выдумана какими-то злостными «левыми» и всякими там каверзными их предтечами, образами которых на постсоветском пространстве нередко пытаются заменить образы бесов. Она – драматичнейшая и внутренне противоречивая (а многие ли идеи не внутренне противоречивы?) составляющая мировой культуры.
Но есть и иные составляющие феномена связки Созидания и Разрушения. В них борьба Старого и Нового, Молодого представлена уже не так наглядно. Либо, в лучшем случае, оказывается лишь фрагментом старой, как мир, борьбы за место под солнцем…
Евреи крушат филистимлян. «Страна – волк «Ассирия» громит соседей, и взамен сожженных Чужих городов возводит Ниневию. Цинь Ши Хуанди льет потоки крови, созидая недолговременное, но Свое могущество. «Монголы» вихрем проносятся по просторам Евразии, сметая целые цивилизации. Иван Третий, а затем и Иван Грозный дважды сокрушают Господин Великий Новгород, а праотцы, взлетевшей резко, словно хищная птица из гнезда, европейской цивилизации, буквально стирают в пыль цивилизации Нового Света. И так до бесконечности. Причем во множестве случаев исторический баланс остается либо проблемным, либо явно минусовым. Что, скажем, оставили после себя, что сохранили из созданного другими и создали сами «Монгольская империя» и ее непосредственные преемники в сравнении с тем, что было уничтожено? – Вопрос для кропотливых мидиевистов…
Увы, тут не все романтично и загадочно. Социально-исторический отбор, как нередко и природный отбор – это далеко-далеко не всегда отбор по принципу: Лучшее, более Стойкое и Худшее. Принцип до элементарного иной: Свое – Чужое. Здесь, как у львов, которые убивают щенят, рожденных самками от их конкурентов. Убивают не потому, что те слабее и нежизнеспособнее Своих. А потому, что те Чужие. Вспомните и сказки «Морозко», «Золушка»… И зачастую именно потенциальная сила, активность и жизнеспособность оказываются теми качествами, которые несут одну из главных угроз своему собственному существованию.
Подытоживая же, мы замечаем переплетение и в мире идей, и в мирах, феноменов, включающих эти идеи, алгоритмов, ситуаций, требующих поисков близких по духу ответов, даже если речь идет о разных культурах и эпохах, и эстафет человеческой мысли, эстафет образов, уже упомянутых «бродячих сюжетов», преломляющихся, словно свет в витражах в многообразий эпох и культур. Свет-то один, а каково преломление!
И вот эта проблема сочетания, взаимопрорастания и одновременно уникальности – одна из центральных в истории человечества. Да и в нашей собственной жизни. Ведь мы сегодня вкатились в такой период схваток «глобализма», «антиглобализма» и местечковости, когда не чьему-то, а самому существованию целого спектра культур далеко не только постсоветского пространства угрожает участь былой, доколумбовой Америки, а те, кто еще совсем недавно, нами, как и индейцами, виделись богами, вовсе не боги. И не дьяволы. Просто у них Свои интересы. Они пекутся о Своих львятах. А общечеловеческое, гуманистическое и тому подобное – не само по себе, не с печатью Первородного греха, а именно в начале ХХ! века, оказывается ветшающим камуфляжем совсем иного.
Литература:
1.Фуллер Стив. Постправда, Знание как борьба за власть. Пер с англ. Дм. Кралечкина под научной ред. Артема Смирнова, – М. 2021.
ЧЕМУ УЧИТ «МУМУ»? Или Фокусы нашей памяти и взаимопонимания
На эти простенькие мысли натолкнул разговор с одним из товарищей, который любил озадачивать неожиданностями, выскакивающими из того, что казалось давно знакомым. «А знаешь ли ты, что барыня не приказывала убивать «Муму»?
Кто из нас не знал с детства о трогательной тургеневской «Муму»? – Но то же и было переложение для детей истории, поведанной русским писателем.
Вот я и потянулся к полному тексту, и вспомнилось, что то самое «Муму» – не рассказик для детей, а текст, что числится среди повестей. Тоже мне, открыл Америку!.. Для себя, пожалуй, «да». Сколько знакомого с детства, оказывается не столь уж знакомым.
Но главное-то оказалось впереди. И это главное увиделось многослойным. Как кольца дерева.
И первый из слоев – вопрос, донимавший с детства: почему Герасим ушел от барыни, лишь утопив свою любимую собачку, а не прихватил ее с собой, прежде, чем уйти?
Вопросы не такие уж детские. Да и не литературоведческие. По крайней мере, я сам смотрю на них, не как литературовед. И не как еще недавний школьный историк, демонстрировавший на примере «Муму», дефективность «Того», канувшего в Лету, крепостного права.
Главное-то здесь – проглядывающее сквозь бегущие сквозь даты времена – переступание «красных линий» и въевшихся в нас самих тех или иных правил игры.
В этом и я сам, то ершистый, то где-то упертый, не раз «на автомате» (то на армейской службе, то под гипнозом белого халата), как и Герасим топил своих «Муму», только без его душевных надломов, и без ухода от своих «барынь», когда моей собственной деревней становилась деревня внутренняя, недоступная миру условностей и субординаций.
И думаю, что таких, в иных, очень странных для меня самих ситуациях, – тысячи и тысячи. Тысячи тех, которые и, вроде бы, при своей внутренней свободе, рациональности и т.д., хоть когда-то, а тоже становились Герасимами. И не из страха. Не из недомыслия. А в силу автоматизма «правил игры».
И вот тут-то самое время подойти ко второму клубку проблем – проблемам понимания и исполнительского рвения. Нет – не немого Герасима. А тех, кто в сложившейся системе отношений оказался между Герасимом и Барыней, которая и сама-то, в конечном счете, была лишь винтиком этой системы.
Вспомним вместе, что предшествовало отчаянному поступку немого гиганта Герасима, последней отрадой которого стала маленькая собачка.
Сначала совсем не злое пожелание барыни выдать замуж за пьяницу, полюбившуюся Герасиму, безответную девушку. Пожелание, по мысли самой барыни, благое: «Авось, забулдыга образумится».
И никто из дворни не решился сказать о том, что именно к ней потянулся Герасим. Сама система отношений такова, что как-то никто не решился сказать барыне, казалось бы, безобидную правду.
А что потом? – По случайности собачка встретилась с барыней – и барыня осталась не в восторге от встречи. Герасим попытался ее унести подальше – продать. Но та прибежала назад.
Спрятанная наивным хозяином собачка могла безрассудно заливаться лаем. Лай беспокоил беднягу барыню. И вот уже целая толпа собралась у лестницы, ведущей в каморку немого.
«Герасим смотрел на всех этих людей в немецких кафтанах сферху, слегка уперши руки в бока, в своей красной крестьянской рубашке: он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.
Смотри, промолвил он, – у меня не озорничай.
И он начал объяснять ему знаками, что барыня, мол, непременной требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет.
Герасим, посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.
Да-да, возразил тот, кивая головой, – да, непременно.
Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения и значительно ударил себя в грудь, как бы объясняя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.
Да ты обманешь, замахал ему в ответ Гаврила.
Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь…» (И.С.Тургенев. Повести, М.: Худож лит., 1987, с.1850).
Барыне тут же доложили, что все исполнено. Когда же Герасим утопил Муму и ушел в свою деревню, «Барыня разгневалась , расплакалась… уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, дала такой нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» (Там же, с.189. Повесть датирована 1852 г.).
На первом плане этой простой, лишенной всякой экзальтации истории, вырисовывается банальная проблема взаимопонимания. – Барыня стонала и плакала. Собачий лай ей мешал. Дворецкий с дворней кинулись к жилищу Герасима. Гигант был глухонемым, и после всех предшествовавших событий понял, что от него требуют убить собаку. Ответные жесты дворецкого убедили его в этом.
Так что, милые, извлекайте урок и будьте осторожны: «Ведь Вас при случае смогут и понять по-своему. Да так, что это приведет к самым драматическим последствиям, сопряженным уже не только с участью маленькой собачки.
Но есть и другой, глубинный план, еще грознее проступающий сквозь десятилетия и даже века. Это план исполнительского рвения, врастающего в соответствующую систему координат.
Он очень значим, когда мы, со своими поверхностными представлениями о тех или иных исторических явлениях, пытаемся с маху определить ответственность таких-то т таких-то лиц за те или иные трагедии.
Тургеневская барынька могла сколько угодно утверждать, что она не приказывала убивать собачку. Но в той системе координат, желала барыня гибели собачки или нет, ее стремление избавиться от последней, совершенно естественно вело исполнителей к мысли, что задача, поставленная перед призванными стать исполнителями, должна быть решена любой ценой.
Так что барыня совсем не должна быть чудовищем, чтобы ее настроения и пожелания истолковывались соответствующим образом.
Обратите внимание: рвение исполнителей, словно выплескивающиеся на берег волны прилива, при определенных системах отношений, будет выплескиваться за пределы указаний и приказов. Ведь тут важно «исполнить» нечто, предугадав скрытые или явные намерения, тех, кто видится Хозяином. Причем совсем не обязательно, чтобы эти настроения были предугаданы точно. Была бы система отношений, а наряду с хитроватыми исполнителями, и услужливых дураков, как и козлов отпущения, найдется предостаточно.
И вот уже перед нами мелькают калейдоскопы реальных исторических событий. То – «кровавое воскресенье» – 9 января 1905 года. Трагедия. И столь уж важно, насколько сам царь лично был причастен или не причастен к ней. Сама система отношений сложилась так, что Некто, считавший, что служит этой системе, счел необходимым стрелять в народ.
А доносы 30х – и не только? – Не будем хаять советский период как таковой. Это так же антиисторично и бессмысленно, как хаять времена Чингиза или Цинь Ши-хуанди. Не станем и копошиться в биографиях Сталина и других советских руководителей, чтобы выявить личную меру ответственности отдельных фигур за то-то и то-то. Ответственность ложилась за создание таких отношений, которые в принципе допускали расширение масштабов жесточайших, и, как видится сегодня, далеко не всегда рациональных действий.
Но это уже проблема, требующая тончайшего и объемного сравнительно-исторического анализа – скальпеля хирурга, а не топора человека на эшафоте.
И сколько таких проблем, прорастающий уже в день сегодняшний!
К оглавлению...